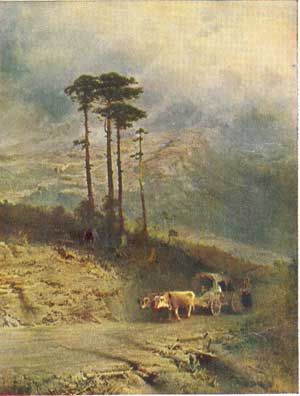 На сегодняшний день — 1 ноября 2004 года средняя продолжительность жизни мужчин в Украине составляет 57 лет. Увы, но это ровно столько, сколько я — Владимир Поляков уже прожил на белом свете. И хотя, нет большей лжи, чем статистика, но не считаться с ней глупо. Я не знаю, сколько еще лет, а может даже десятилетий отмерила мне судьба, но вопрос о работе над мемуарами обрел все более осязаемую реальность.
На сегодняшний день — 1 ноября 2004 года средняя продолжительность жизни мужчин в Украине составляет 57 лет. Увы, но это ровно столько, сколько я — Владимир Поляков уже прожил на белом свете. И хотя, нет большей лжи, чем статистика, но не считаться с ней глупо. Я не знаю, сколько еще лет, а может даже десятилетий отмерила мне судьба, но вопрос о работе над мемуарами обрел все более осязаемую реальность.
Мемуары должен писать каждый интеллигентный человек — это аксиома, но другое дело, кто будет их читать? Только его дети, внуки, правнуки или может быть они будут интересны и познавательны более широкому кругу? В моем активе уже есть опубликованные книги, поэтому вероятность того, что эти записи увидят свет, достаточно велика, как не исключено и то, что они никогда не выйдут за рамки семейного круга. Эта неопределенность заставляет меня постоянно держать в поле зрения две разновеликие цели: моего внука, племянников и племянниц, для которых эти воспоминания история и их семьи, а также тысячи, тех людей, которые, возможно, тоже будут читать этот труд. Именно им предстоит решать: не напрасно ли и они, и автор потратили свое время; или же крупицы тех сведение, которыми я обладаю, помогут им лучше разобраться во времени, в людях, в себе.
Работая с молодежью, я всегда с горечью отмечал их вопиющее безразличие к истории своих семей. Буквально единицы знали отчество своего дедушки, а вопрос о девичьей фамилии бабушек и вовсе ставил в тупик. История семьи — это неотделимая часть истории общества, истории отечества.
Приступая к этой работе, я сходил в симферопольский храм святых Петра и Павла. Храм этот — своего рода семейная церковь. В начале ХХ века в нем крестили моего отца, крестился я, моя дочь, мой внук… Я вошел в него только для того, чтобы молча постоять перед святыми образами, перед которыми когда-то стояли мой отец, мой дед.
Все, что было до меня.
Задумавшись о том, с кого из родителей начать описание своей родословной, я невольно вступил сам с собою в спор: традиции и культура какого из народов, мне ближе? У многих народов родословная человека ведется по его матери, отсюда и такие замысловатые на наш слух имена с непривычными для нас женскими вкраплениями. У других — исключительно по отцовской линии. Именно поэтому мы — русские наследуем не только фамилию своего отца, но также, как своеобразный идентификационный код и его имя, которое в качестве отчества становит частью нашего юридического бренда — Ф. И. О. Безусловно, так было не всегда и фамилия, а тем более отчество, были в России привилегией только крайне тонкого слоя российского дворянства. Для простого люда: купцов, мещан, а тем более крестьян фамилии, как юридические составляющие, к тому же передающиеся по наследству появились очень поздно с середины ХІХ века, в основной массе уже после отмены крепостного права. Именно по этой причине людям из незнатных фамилий, так сложно проследить свою родословную, которая, как правило, теряется уже на четвертом–пятом витке.
Примечательно, что Коран требует у своих приверженцев знания своих предков до седьмого колена! Как это здорово, как мудро! Именно по этой причине полное имя любого мусульманина звучит столь длинно и вычурно с неизменным упоминанием «ибн» то есть сын такого–то и так до заветного седьмого колена включительно.
Фамилия Поляков чрезвычайно распространена в России и по частности даже занимает седьмое место, пропустив вперед Ивановых, Смирновых, Кузнецовых, Поповых, Петровых, Сидоровых. Среди фамилий, образованных от этнонимов: Татаринов, Чехов, Шведов, Литвинов, Литовченко, Половцев, Зырянов, Мордвинов и т.д., находится на первом месте. Объясняется это многовековым соседством России с Польшей, но в еще большей степени с массовым выселением в глубинки империи польских повстанцев.
На разных этапах жизни я неизменно встречал однофамильцев. При этом ни разу никто из нас даже не пытался выяснить: а не родственники ли мы, не из одного ли роду–племени, так как прекрасно понимали, представителями какого многочисленного фамильного клана мы являемся.
Был ли я доволен своей фамилий? Если сказать честно, то не особенно. Если в школе кто-либо окликал меня не по имени, а «Поляк» то я обижался. Однажды моя племянница Леночка, в девичестве тоже Полякова, как–то поинтересовалась, называли ли меня в школе «поляком»? Услышав утвердительный ответ, с грустью заметила, что ее тоже обзывали «полячкой».
Матвей Петрович Поляков
1885–1921

Семейное предание сохранило рассказ о том, что в 1909 году выпускник Одесских телеграфных курсов Матвей Поляков был направлен на работу в Богом забытое местечко Ак–Мечеть, которое находилось на самом западе Крыма на Тарханкутском полуострове. Население Ак-Мечети той поры было сплошь татарское, и единственным человеком, который мог говорить по–русски, была молодая учительница Эстер Туршу. Не познакомиться и не сблизиться они не могли. К тому же девушка приехала в эту глухомань из самого Санкт-Петербурга, где училась на Бестужевских курсах. Ее рассказы о встречах с писателями Леонидом Андреевым, Александром Куприным о дружбе с актрисой Комиссаржевской ошеломили Матвея. Как я теперь понимаю, в какой-то степени повторилась история современного фильма «Любовь и голуби». Эстер Туршу пленила Матвея своими познаниями и уже на следующий год они пошли под венец.
В Крымском государственном архиве, я специально затребовал все дела симферопольского телеграфа. Мой поиск увенчался успехом. Матвей Петрович Поляков фигурировал во многих пожелтевших от времени документах. В ведомостях за 1919 год упоминалась и моя бабушка Анна Вениаминовна Полякова. Вспомнилось, с какой гордостью рассказывала она о своей недолгой работе на телеграфной ниве, но из письма начальника телеграфа, какого-то белогвардейского поручика своему начальству, выяснилось, что из-за катастрофической нехватки квалифицированных кадров, приходится «набирать в телеграфистки кого попало». Как я понял, моя бабушка относилась именно к этой категории. Судя по платежным дореволюционным ведомостям, зарабатывал мой дед 45 рублей в месяц, что считалось довольно приличной суммой.
В 1911 родился мой отец Евгений, а затем дочь Надежда. Примечательно, что когда в 1956 году при оформлении воинской пенсии отцу понадобилось свидетельство о рождении, то он послал соответствующий запрос в Симферополь. Очень скоро пришел ответ, подтверждающий факт его рождения по сохранившимся книгам крещения Петропавловского собора.
Поступок бабушки, официально отказавшейся от караимского вероисповедания и принявшей православие, привел к тому, что, тоже самое, сделали ее младшие братья Соломон и Ананий, вскоре женившиеся на русских, а также сестры Сарра и Раиль, также вышедшие замуж за иноверцев.
Матвей органично вошел в семейный круг Туршу. Как рассказывал Сергей (Соломон) Вениаминович Туршу, он был видным, красивым мужчиной, чего никак нельзя было сказать об Эстер. Братья часто разыгрывали ее, подсовывая в карманы Матвея чужие женские чулки, а сами покатывались от хохота, наблюдая сцены ревности, когда Эстер их находила. Думаю, что если ее братья позволяли себе такие шутки, то для реальной ревности, по–видимому, поводов не было.
Мой папа рассказывал мне, что по воскресеньям отец обязательно водил его в церковь, учил с ним молитвы, а однажды пошел с ним встречать самого царя Николая ІІ, который по какой–то надобности приезжал в Крым. Так, сидя на плечах отца, шестилетний Женя увидел последнего императора Российского государства.
В Гражданскую войну в силу своей профессии Матвей Поляков при всех сменявшихся в городе режимах продолжал работать на телеграфе. И хотя официально он не входил ни в одну из многочисленных партий, но симпатии его были на стороне большевиков. По словам бабушки, которая в тот год тоже работала на симферопольском телеграфе «бодисткой», так называли девушек работавших на аппарате «Бодо», они воровали и передавали кому–то секретные телеграммы. Важные на их взгляд донесения, сознательно отправляли не по адресу. Все это закончилось тем, что белогвардейская контрразведка арестовала Матвея Полякова. Угроза расстрела была более чем реальной, и тогда бабушка обратилась за помощью к двоюродному брату своей матери Соломону Крым, возглавлявшему в ту пору правительство белых на полуострове. «Телефонное право» сработало, и Матвей Поляков оказался на свободе.
Если бы не помощь влиятельного родственника думаю, что одна из улиц Симферополя в 1930 году, к годовщине освобождения Крыма от Врангеля, была бы названа его именем, как это стало с другими казненными подпольщиками.
Примечательно, что в эти годы его вдову Анну Вениаминовну Полякову лишили избирательных прав и она, его сын, дочь были обречены стать отщепенцами Советского государства, так как не имели право учиться, быть комсомольцами, участвовать в выборах…
Анна Вениаминовна разыскала друзей Матвея Полякова по большевистскому подполью, которые документально подтвердили их участие в борьбе с белыми. Благодаря этому и она, и ее дети были восстановлена в правах.
Полученный урок, навсегда остался в памяти моего отца. С той поры во всех анкетах он писал предельно кратко: “Отец телеграфист, мать — учительница. Никаких сведений о прочих родственниках не имею».
В захваченный красными Крым наряду с массовыми расстрелами пришел, голод и тиф. Отец рассказывал, как в восемнадцатом году на его глазах расстреливали людей только за то, что на руках не было мозолей. За то, что на голове был буржуйский котелок, за то, что в руках был докторский чемоданчик. В 1920 году массовые расстрелы уже носили не стихийный, а организованный характер. Люди приходили по объявлению на регистрацию и уже никогда больше не возвращались.
Матвей Петрович по–прежнему работал механиком телеграфа, в семье был относительный достаток. В связи с тем, что бабушкина сестра Раиль Туршу была врачом, она проводила много времени в тифозных бараках. Заразилась сама, и принесла тиф в нашу семью. В считанные дни ушли из жизни Раиль и Матвей Поляков. Моему отцу в это время было десять лет.

1917 год. Симферополь. Чиновничий переулок.
На этом из-за отсутствия информации можно было бы поставить точку на истории семьи Поляковых, но жизнь дарит порой удивительные встречи. В 1944 году 17-я воздушная армия освобождала Одессу. 39-й авиаполк, в котором служил Евгений Поляков, стоял в селе Евгеньевка, Яновского района. На какое-то время фронт стабилизировался, и базирование в Евгеньевке затянулась. Мне не раз доводилось и читать, и слышать о том, что между фронтовиками–постояльцами и их квартирными хозяевами возникали дружеские отношения, которые потом еще долго продолжались в переписке. Такие же отношения возникли и у майора Полякова с его квартирной хозяйкой — председателем сельсовета Александрой Петровной Просуньковой. Расставались они, как родные. Уже в Румынии отца нашло письмо сестры, которая ошеломила его известием о том, что село Евгеньевка, Яновского района, Одесской области — родное село их отца. Отпросившись у командира, отец полетел назад в Евгеньевку. В сельсовете нашел Просунькову, и попросил рассказать, нет ли в селе кого-нибудь, кто бы помнил Матвея Петровича Полякова. Александра Петровна побелела — это мой родной брат! Оказывается целый месяц Евгений жил в доме у родной тетки. Александра Петровна повела его на кладбище и показала могилу своего отца, Женина деда. До самой своей смерти Петр Поляков помнил о том, что где-то на свете мается его кровинушка — внук Женя и даже держал для него дом.
Впоследствии отец признался мне, что очень обижался на мать, за то, что она отсекла его от родственников отца. Уже выйдя на пенсию, он разыскал детей Александры Петровны: своего двоюродного брата Николая и двоюродную сестру Татьяну. Уже после смерти отца повидал их и я.
Татьяна жила в Одессе. Внешне она была удивительно похожа на папину сестру — тетю Надю. По ее рассказам на Одесщину Поляковы попали не по своей воле, а откуда-то из-под Орла были вывезены в Новороссию помещиком. Что характерно для тех мест, бабушка ее была украинкой, но её девичью фамилию она уже вспомнить не могла.
На этом рассказ о моей одесской родственнице можно было бы и закончить, если бы не ее муж — Анатолий Власов. Оказалось, что они оба с одного села. Прошел Анатолий всю войну, стал офицером, имел много наград. В 1945 сыграл в футбол за сборную полка и забил полдесятка голов. Его тут же взяли в сборную дивизии — там история повторилась. Из сборной армии он оказался в самом ЦСКА, знаменитой команде лейтенантов, где в ту пору играли Всеволод Бобров, Валентин Николаев и другие футболисты, ставшие легендой советского футбола. Трудно поверить, но перспектива стать футболистом Анатолия совершенно не прельщала. В отличие от остальных своих товарищей, которые кроме футбола ничего не умели, он уже был капитаном, его военная карьера складывалась прекрасно, и ставить свою жизнь в зависимость от мяча он не собирался. Пройдя тренировочный сбор в ЦСКА, Анатолий сбежал в строй. Уже в пятидесятые годы, в звании подполковника, под настроение, вновь вышел на поле за сборную дивизии. Не стоило этого делать! Уже на следующий день пришла телеграмма от командующего округом откомандировать подполковника Власова в сборную команду округа. Не желая дважды наступать на одни и те же грабли, Николай срочно улегся в госпиталь. Так с футболом было покончено навсегда. И лишь однажды, когда в Одессу приехала возглавляемая тренером Бобровым футбольная команда, Николай позвонил прославленному футболисту в гостиницу. Они встретились, узнали друг друга, выпили, поговорили о прошлом и навсегда расстались. Закончил он службу полковником, работал в Японии, где был то ли разведчиком, то ли атташе, что в общем одно и то же.
Двоюродный брат отца Николай Просуньков, оказывается, жил в Крыму, в Евпатории. Я поехал к нему. Беседуя с ним, я с интересом всматривался в его лицо, улавливая родные черты. Конечно, он и отец были похожи.
Рассматривая его семейный альбом я с удивлением увидел Николая Просунькова рядом с Юрием Гагариным, Германом Титовым. Оказывается долгие годы Николай служил в Космическом центре заместителем командира по политчасти.
Слушая его рассказы о родном селе, о его детстве я с удивлением осознал, что беседую с человеком, который, по его словам, любил сидеть на коленях у своего деда — моего прадеда Петра Полякова.
Разбирая старые бумаги сестры отца, я обнаружил письмо, которое меня очень заинтересовало. Вероятнее всего было оно от Татьяны Власовой. Некоторые фрагменты из него я воспроизведу: «Дедушка был русский человек. Звали его Петр Феоктистович, бабушка Пелагея Васильевна — украинка. Дедушка родился в Орловской губернии, Кромского уезда, село Абуденовка. Бабушка родилась здесь. Крестьяне с Абуденовки были проиграны в карты украинскому помещику, вот и образовалось село Евгеньевка, названное в честь помещика Евгения…
Хороший барин научил грамоте и подарил ему грифельную доску и грифель, по которому он немного научил дедушку, и эта грифельная доска дожила до сих пор, пока пьяный Антоша раздавил ее. Дедушка мог читать и писать. Особенно хорошо читал Ивангилие по-славянски, поскольку дядя их, так научил. Так раньше учили читать и писать. Дедушка помнил речку, лес, волков, которые по ночам выли.
Бабушка была с двумя детьми мальчики Остап и Петя, а где отец? За неделю перед выездом он умер, его засекли на панском двое и долго не жил, пролежал два месяца и умер. Во дворе стояла скамья, на которую ложили провинившихся и секли. Кому 25, 50, 75 розог, такая была мера наказания».
Когда я пишу эти строки меня, еще не покидает мечта поехать в Одесскую область и разыскать могилу моих предков. Сбудется это или нет, не знаю, а теперь рассказ о второй составляющей моего рода: о предках моего отца по материнской линии.
Караимы — баловни судьбы
С детских лет я знал о том, что моя бабушка Аня — караимка. О том, кто такие эти караимы, в ту пору я знал лишь то, что они коренные жители Крыма и живут там с незапамятных времен. В какой-то книжке я прочитал о скифах, которые тоже жили в Крыму с незапамятных времен, и поэтому в моем детском сознании эти два народа объединились. Однажды мне на глаза попала репродукция из журнала «Огонек»: «Бой славян со скифами». Как я сейчас понимаю, в историческом плане — это полный нонсенс, так как эти народы разделяет минимум лет пятьсот, но тогда эта картина произвела на меня огромное впечатление. На поле брани лежали убитыми скифский и славянский юноши. Именно тогда я — первоклассник впервые задумался о том, что вот они два моих предка: славянин и скиф!
Сегодня о происхождении караимов существуют две взаимоисключающие теории. Как историк я ни в коей степени не считаю себя специалистом в этом вопросе, так как темы моих кандидатской и докторской диссертаций касаются других сфер, но, тем не менее, свое видение этого вопроса у меня есть, и в настоящих мемуарах я его представлю читателю.
В истории человечества нет, наверное, второго такого народа, который при всей его фантастической малочисленности привлекал бы к себе столько внимания ученых, исследователей, да и просто просвещенной публики.
Свой рассказ о нем я начну с события неординарного. Чуть более тысячи лет назад Каспийское море, или как его тогда называли Хазарское, стало выходить из берегов и затапливались плодороднейшие долины, сады, селения. Такое с оторвавшимся от мирового океана Каспием случалось и раньше — один раз в несколько сот лет. Этот же разлив для Хазарского каганата оказался роковым. Входившие в него, некогда многочисленные, племена стали распадаться под ударами воинственных соседей и, отказавшись от недавно приобретенной веры, стали принимать религию соседей: ислам, христианство, или возвращались к своим прежним языческим богам. При этом, по прошествии столетий, терялось их первородное имя, исчезали традиции, рвалась связующая нить времен.
И только в Газарии, как в Х веке еще продолжал именоваться наш современный Крымский полуостров, осевшие там хазары оставались верны привнесенной в их жизнь религии. Поклонение священному писанию. Библия оказалось их спасением и их несчастьем. Ветхий Завет, или Пятикнижие Моисея — "альфа и омега" их веры, как известно, находится в основе всех основных монотеистических религий Европы и Азии. В той или иной форме на него опирались догматы иудаизма, христианства, ислама. Но в то же время, приняв библеизм, (впоследствии это учение назовут караимизм, "читающий библию"), его последователи категорически отвергали: Талмуд — основу иудаизма, отвергали Евангелие — второй после Ветхого Завета компонент христианства, отвергали Коран — основной свод мусульманских ценностей и законов.
Не имея в досягаемых пределах единоверцев, оказавшиеся на полуострове хазары, в силу строжайшего запрета вступать в супружеские браки с иноверцами, оказались в этнической изоляции. Это спасло их от ассимиляции более многочисленными народами, как это случилось с таврами, сарматами, скифами, готами, которые никуда не ушли с полуострова, но отдали кто крымским татарам, кто грекам свое имя, свои традиции, свою культуру. Религия спасла остатки хазар как этнос, но она же его и погубила. Век от века число живущих в Крыму потомков хазар становилось все меньше, меньше, меньше.
И, тем не менее, судьба оказалась к ним милостива. Сколько раз казалось, что еще совсем немного горя, еще малая толика несчастий, и народ погибнет, исчезнет безвозвратно, а он находил в себе силы для борьбы, для жизни, переступая из века в век. Однако даже самая длинная дорога имеет конец, и, похоже, для живших в Крыму потомков хазар, или, как вот уже три века называют окружающие их народы, караимов, ХХI век станет последним. Но об этой грустной странице несколько позже.
Сердцем караимского народа была, есть и, несомненно, будет до сих пор сохранившая свою величавую красоту крепость Чуфут-Кале или просто — Кале. Так, во всяком случае, она именовалась до ХІХ века. "Кале"— это и есть крепость (арабское). "Чуфут" — более поздняя приставка, означающая "иудейская," по исповедуемой караимами религии. В последние годы все чаще крепость стремятся называть Джюфт-кале, что означает «двойная крепость».
С 1299 года после победного шествия по степи и предгорью войск темника Ногая в течение четырех последующих веков Кале становится резиденцией Крымских ханов, где под надежной защитой неприступных стен и верного гарнизона они находят себе убежище. Знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби, посетивший крепость в 1665 году, был удивлен, найдя в крепости одних только караимов. По его словам, мусульман здесь не было и в помине: комендант крепости, состав гарнизона, полиция, караул у крепостных ворот — все сплошь караимы.
Общность языка, культуры, традиций способствовали тому, что, несмотря на различия в религии, караимы великолепно интегрировались в жизнь Крымского ханства, заняв там свое, подчеркиваю, свое не унизительное и не почетное, а свое место.
Как отмечал один из лучших исследователей Крымского ханства профессор В. Д. Смирнов: "Общество жителей Чуфут-Кале признавалось со стороны ханской власти политической единицей, которой были предоставлены всевозможные правовые льготы и гарантии внутренней бытовой независимости".
Побывав в крепости, я услышал в рассказе экскурсовода такую фразу: “Раньше крепость называлась КЫРК–ЕР, что означает “сорок родов”, а потом КЫРК–ОР — “сорок укреплений”. Информация заинтересовала, но вызвала и сомнения — почему именно сорок? Откуда такая точность? Все путеводители не дали ничего нового. Экскурсовод этот перевод не сама придумала, а в точности повторила то, что написано в книжках.
В записках одного путешественника, побывавшего в Крыму в средневековье, вновь встречаю упоминание о том, что в горах было "сорок крепостей".
Вместе с тем вспомнилось и другое: “Али-баба и сорок разбойников”, “сороконожка”, да и Моисей (как написано в Библии) водил еврейский народ по пустыне ровно сорок лет
Надо ж было такому случиться, что в ту пору в Симферополь приехал ансамбль песни и танца из Кара–Калпакии “КЫРК КЫЗ”, что в переводе означало — “Сорок девушек”! Пораженный таким совпадением, я обратился к руководителю ансамбля с вопросом: «Действительно ли в ансамбле сорок девушек»?
Первоначально он подумал, что я из ОБХСС (отдел по борьбе с хищением социалистической собственности – прообраз современной налоговой службы), но, убедившись, что я не представляю ему опасности, объяснил, что девушек значительно меньше — всего 27, но на Востоке, когда ходят сказать: «много», часто употребляют слово — “сорок”.
Так вот в чем дело! Значит, Али–баба и много разбойников, и Моисей водил евреев по пустыне много лет и сороконожка, в общем-то — многоножка.
И если вновь вспомнить КЫРК–ОР, то, оказывается это означает “много укреплений”.
Жили караимы не только в Крыму. Согласно караимским преданиям, после победы над татарами в 1392 году великий князь литовский Витовт переселил несколько сот караимских семей из Крыма в Тракай, а также в Луцк и Галич. В действительности, общины в Луцке и Галиче возникли несколько позже. Первое упоминание о караимах в Луцке относится примерно к 1450 году, община, по–видимому, возникла за несколько десятилетий до этого.
Хотя караимы жили во многих местах, наиболее заметными были поселения в Луцке, Галиче, Кокизове и Деражном.
Добрая служба караимов, неприступность охраняемой ими крепости создали им прекрасный имидж. В 1246 году князь Даниил Галицкий, а в 1398 году литовский князь Витовт увели в Галич и Тракай часть караимов, положив таким образом начало трем караимским ветвям и без того столь малочисленного народа: крымской, тракайской, галичской. Последняя, к сожалению, практически исчезла, так как все караимы Галича были вырезаны запорожцами во время одного из набегов на Польшу.
В этот период и в Крыму, и Галиче, и в Литве за народом закрепляется этноним «караимы». Существует много версий его происхождения.
Приведу самую распространенную. «Этимология слова КАРАИМ связана с гебрайским корнем קרא (читать). Образованная от него форма причастия קראי = карай (читающий) во множественном числе имеет форму קראים = караим (читающие). От этого же корня происходит слово מקרא = Микра (Св. Писание или Ветхий Завет Библии) – единственная для караимов священная книга. В связи с тем, что копирование на русский язык подобных имён собственных принимает форму: серафимы, нефаллимы, херувимы, олимы – множественная форма в русском языке приобрела форму КАРАИМЫ».
Есть и иные версии, которые, якобы указывающий на происхождение народа от самих киммерийцев. В последние годы в средствах массовой информации все чаще публикуют высказывания различных «караимоведов», которые ратуют за то, что этноним «караим» восходит к тюркскому племени караитов. Версия, как версия, и имеет право на существование. Кстати, распространенные русские и украинские фамилии Киреев, Кирей, Кириенко восходят именно к этому этнониму.
Противоречия же заключается в том, что, признав происхождение народа от племени караитов, приходится автоматически признать тот факт, что караимы появились на полуострове только в ХIII веке.
Лично мне представляются убедительными рассуждения А. И. Полканова о не случайности присутствия в этнониме формата «кара» — черный. Принципы этимологии требуют наличия системы, и вот тут мы видим, что слово «черный» часто встречается в качестве составной части в самых различных языках. Еще Геродот писал о «меланхленах» — «черноризцах». Русские летописи писали о «черных клобуках». Относительно живущих в Крыму потомков хазар термин «караимы» появился достаточно поздно и, возможно, связан с иной, нежели у основной массы народа верой. Пока крымские татары не были мусульманами, ничего не было известно и о караимах, хотя народ, как таковой, уже был. Любая чужая вера — неправильная, черная. Примечательно, что абсолютное большинство самоназваний народов строится по такому принципу: «мы» — правильные, настоящие, а «они» — неправильные. Известная книга «Повесть о настоящем человеке» в переводе на чукотский язык звучит как «Повесть о чукче». Почему караимы приняли столь нелестное название? Да одни ли они? Карачаевцы на Кавказе, каракалпаки в Средней Азии, черногорцы в Югославии.
Как-то в мои руки попала книга Алана Глаш из Нальчика «Карча» об истории такого народа, как карачаевцы. Там оказались заинтересовавшие меня строки: «В восьмом месяце 1374 г. мы с отцом завершили писать книгу о кыйырымманах и кыйыраузах из племени хазар, живущих в Крыму, на берегах Крыма, в Тьмутаракане». Там же дается пояснение: «Кыйырымманах (карач. Балкар кыйыр — край, конец, окраина. Кыйыраузах — крайнее ущелье».
Невольно возникает ассоциация с тем, что Кыйырымманах — это караимы! Соответственно и новая трактовка этнонима — «живущие на краю». Возможно, что именно так, хазары и их потомки могли называть своих собратьев, живущих далеко на западной окраине. Впрочем, этот вывод пока исключительно моя версия, которая тоже имеет право на жизнь.
И в Крыму, и в Литве караимы оказались на достаточно привилегированном положении: крымские ханы жаловали их тарханными грамотами, тем самым причислив к военной аристократии, которая освобождалась от всех налогов, от обозной повинности, от предоставления домов на постой и т.д. Точно так же и трокайские караимы были жалованы магдебурским правом, по которому имели большие льготы. Кроме того, за все допущенные прогрешения караимы отвечали только перед своим "войтом", а уж он перед королем. В сохранившихся ханских ярлыках указывалось, что за караимами закреплялись владеемые ими с древнейших времен земли. Простирались эти владения от Кале до речки Качи, то есть от Бахчисарая до современного Севастополя. Примечательно, что к концу существования помещичьего землевладения в Крыму (к 1917 году) у караимов было сосредоточено 89 573 десятин земли и 786 десятин под садами.
За что же были такие привилегии? Ответ содержался в самих тарханных грамотах: «Ради охраны ими крепости». В течение веков караимы выполняли роль гвардии, личной охраны крымских ханов, литовских князей. Кстати, французское слово "гвардия" в переводе на русский тоже означает "охрана". В знаменитой Грюнвальдской битве (1410г.) предводитель Тевтонского ордена, как пишут хроники, был убит синаком. Синак — боевые вилы, оружие чрезвычайно редкое и имевшееся на вооружении только у караимов, которые участвовали в битве целым полком.
О жизни караимов периода средневекового Крыма, в общем-то, мало что известно. Основными территориями их расселения были Кале, Мангуп, Кафа (Феодосия), где их было весьма много, а также Солхат (Старый Крым), Херсонес, Инкерман, Керчь, Тамань. В одном только Солхате караимы имели 4 кенассы и 17 учебных заведений. Один из соборов Солхата был настолько велик, что вмещал в себя до 3000 человек. Считается, что численность караимов до–русской поры достигала 70 тысяч человек.
Были караимы ханскими казначеями, были архитекторами, а один из них чуть не стал гетманом Украины. Было это в самое смутное для нее время, когда стоял народ на распутье. Победу, как известно, одержали сторонники Российской ориентации во главе с Богданом Хмельницким, а вот возглавлявший польскую партию полковник Эльяш Караимович из рода Узунов был убит сторонниками Богдана. Событие это не осталось незамеченным в Кале. Как известно, после посещения Бахчисарая Богдан Хмельницкий оставил хану в качестве залога своего сына Тимофея. Хан вознамерился было поместить его, как обычно, в Кырк–Ор, но караимы предупредили, что это невозможно, так как жизнь сыну Хмельницкого они не гарантируют. Как следствие, хан был вынужден поместить Тимофея в самом отдаленном от Кале участке — в крепости Ор–Капу (Перекоп).
Бесконечные, непрекращающиеся войны, в которых караимы, в силу возложенных на них почетных, но весьма рискованных функции гвардии, несли неслыханные потери, привели к тому, что к моменту утраты Крымским ханством независимости и вхождению в состав России, число их, по мнению самих караимских исследователей (Ю.Кокизов) не превышало и 3000 человек.
С XYI века значение Кале как неприступной крепости стало падать. Политический и военный центр тяжести переместился за стены Мангупа, где, кстати, караимы составляли едва ли не половину жителей. По–видимому, и там на них возлагалась функция по поддержке и охране крепости. А вот Кале становится мирным городом, крепостные стены которого используются разве, что для содержания почетных невольников, в числе которых с 1659 по 1678 годы находился в заточении русский боярин Василий Борисович Шереметьев и почти одновременно с ним польский гетман Потоцкий.
И все же основным занятием народа было земледелие, ремесла. Главным из них — возделывание кожи, изготовление седел, обуви, бурок, войлока. С включением Крыма в состав России статус караимов изменился. Крепость никакой стратегической ценности не представляла, и их многовековая военная служба оказалась никому не нужной. Начался массовый исход караимов из Кале в Бахчисарай, Евпаторию, которая в XIX веке становится неформальной караимской столицей.
Покорение Крыма и почти одновременный раздел Польши наряду с проблемами обычного порядка, вновь породил пресловутый еврейский вопрос, который в свое время «закрыл» Петр Первый, при котором евреи были просто изгнаны из России. Первоначальные намерения более просвещенной Екатерины не носили дискриминационного характера, но давление со стороны купечества, почувствовавших в «христопродавцах» мощного конкурента, было столь велико, что она была вынуждена ввести «черту оседлости» и запрет на проживание евреев за ее пределами. Затем появились и другие дискриминационные законы.
Не просто проходила интеграция караимов в новую жизнь уже в составе Российской империи. Привычное и безвредное "чуфутлаp", как нередко называли их по исповедуемой ими религии татары, что в переводе означало совершенно безобидное в то время "иудей", новыми властями было понято копотко и безапелляционно — ЖИДЫ! И вот тут караимскому народу, хоть и ненадолго, но пришлось узнать почем фунт лиха. Государственная машина империи обрушивала на них все новые и новые: "нельзя", "неположено", "запрещено", "только не для евреев". Караимы всполошились. Веками, проживая в атмосфере веротерпимости и уважения к чужим религиям и верованиям, они были шокированы. На обращение к властям о причинах такого отношения им сквозь зубы объяснили, что поскольку иудеи предали Христа то и несут ответственность за это преступление. «Какого Христа? — ахнули караимские патриархи, да наша религия более древняя, чем христианство, никого Христа в наших книгах нет. И в Израиле мы тогда не жили».
Вот, приблизительно так высшее караимское духовенство обосновало свое обращение в Священный Синод с просьбой снять с них незаслуженное обвинение в "христопродавстве." И счастье улыбнулось им. Детально изучив религию караимов Священный Синод вынес вердикт: НЕ ВИНОВНЫ!
Но путь возвращения попранных прав был ох как непрост:
1795 год. Екатерина II указывает Таврическому губернатору "оказывать караимам разные выгоды и облегчения, но с тем, чтобы в это число не входили те из евреев, кои известны под названием раббинов" (имелись в виду крымчаки).
1827 год. Караимы освобождаются от рекрутской повинности.
1839 год. Караимам дозволено принимать в услужение христиан, а прибывающим из–за границы вступать в Российское подданство.
1843 год. На них распространяются общие права о Почетном гражданстве.
1850 год. Им дозволена продажа горячительных напитков.
1852 год. Разъяснено, что на них не распространяется запрет на въезд в столицу, что категорически было запрещено евреям.
1863 год. Издано постановление о пользовании караимами всеми привилегиями согласно своему сословию.
Все выше перечисленные документы требуют пояснений. Даже обретя равенство и став полноправными гражданами Российской империи, караимы очень скоро поняли, что потеряли больше, чем приобрели. И в Крымском ханстве, и в царстве Польском они были освобождены от подушной повинности, от телесных наказаний, от рекрутской повинности. К тому же, если в сословной иерархии той поры жители городов Польши и Литвы подразделялись на: посадских, цеховых, мещан, купцов и Почетных граждан, то все караимы, жившие на территории Польши и Литвы, от рождения относились к Почетным гражданам! Теперь же они были отнесены к мещанскому сословию с утратой огромного числа привилегий. На обращение к царю о причислении ВСЕГО караимского народа к дворянскому сословию ответ был четок: "На общих основаниях, за личные заслуги перед Россией".
Больше с подобным прошением караимы не обращались: за личные заслуги, так за личные. Уже через четверть века абсолютное большинство караимов было в купеческом сословии, а каждый пятый стал Почетным гражданином.
В первой четверти ХIХ века караимская общественность проявляет неподдельный интерес к своей истории, своему происхождению. Интерес этот был непраздный. Угроза разделить судьбу евреев–талмудистов вновь стала реальностью. К тому же в 1839 генерал-губернатор Новороссийского края граф Воронцов направил официальный запрос Таврическому караимскому духовному правлению:
- От какого народа происходят караимы и откуда они пришли?
- Когда пришли и по какому случаю?
- Чем они занимаются и как себя ведут?
- Были ли раньше, а также есть ли теперь между ними люди, отличившиеся на государственном и общественном поприще?
- Сохраняются ли между ними исторические сочинения и верные предания, которыми можно было бы доказать древность происхождения их вероучений?
- По какой причине и когда произошло их отделение от равинистов и чем они отличаются от последних.
Нужны были самые действенные меры. Ответственность за судьбу народа взял на себя караимский гахам Сима Бобович. Все караимские общины он обложил своеобразным налогом, выделил немало собственных средств и, наняв сведущего человека, поручил ему, не считаясь ни со средствами, ни с опасностями решить поставленную Воронцовым задачу. Выбор Бобовича пал на караимского священника Авраама Фирковича.
Сегодня просвещенный мир знает Фирковича и уже забыл о Бобовиче. Ну что ж, может быть это и справедливо. Авраам Фиркович совершил невозможное: он объездил Иудею, Кавказ, Сирию, Египет, где обследовал едва ли ни каждую кенассу и синагогу. Действуя, где подкупом, где угрозами, а где и обманом, он сумел собрать уникальнейшие документы, среди которых мировые раритеты: самая древняя библия; переписка хазарского кагана, «халдейская рукопись», написанная в год распятия Христа. В целом «коллекция по описям Фирковича состоит из 2412 номеров, в том числе 9975 свитков и рукописей; 703 документа подлинных и копий. Среди них 25 манускриптов написанных ранее ІХ века и 20 — ранее Х века. Важнейшей находкой была признана рукопись книги Пророков 916 года с вавилонской пунктуацией, найденная в Чуфут–Кале.
Следует напомнить, что в те годы годовой бюджет Императорской Публичной библиотеки не превышал 8–10 тысяч рублей и для приобретения коллекции Фирковича, Императором Александром ІІ было выделено 125 тысяч рублей.
Многотрудный подвиг Авраама Фирковича не прошел незамеченным. Поставленная перед ним задача была выполнена. Отмежевание от еврейского народа было полным. В какой-то степени даже излишне триумфальным, что сделало его имя тенденциозным и ненавистным у целого ряда ученых, политиков, общественных деятелей не только ХІХ века, но и ХХ и даже ХХІ !
Выскажу собственную позицию: Авраам Фиркович был величайшим коллекционером “Всех времен и народов”. Его имя по праву стоит рядом с таким же коллекционером, искателем и авантюристом как Генрих Шлиман, которому удалось раскопать легендарную Трою найти, и тайно вывезти ее сокровища, положив начало международному скандалу в котором до сих пор замешаны четыре государства: Турция, Греция, Германия и Россия. В музеях и банках последней и находятся сокровища Трои, вывезенные в 1945 году из Германии, но на которые по–прежнему претендуют и Греция и Турция.
Периодические весьма крупные скандалы возникают и по поводу законности владения Россией уникальнейшими документами из так называемой “Коллекции Фирковича”, но это отдельная история.
Россия становится обладательницей уникальнейшего собрания древних рукописей на древнееврейском, самаритянском, караимском, арабском (иногда в еврейской графике), турецком и других языках. Всего 15–16 тысяч текстов и фрагментов. Период составления текстов охватывает временной интервал с ІХ по XVIII века, а география их происхождения простирается от Литвы до Индии. До поступления коллекции Фирковича в Рукописном отделе Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге хранилось всего шесть рукописей такого типа.
Одновременное появление столь огромного числа ранее неизвестных рукописных и иных памятников древности первоначально ошеломило немногочисленных ученых семитологов, ориенталистов. К тому же сделанные Фирковичем выводы об истории его народа, мягко говоря были неубедительны. Безусловно, сказалось и отсутствие фундаментального светского образования (мельник из Луцка Авраам Фиркович даже не закончил гимназии). Явно негативную роль играл и социальный заказ, который Фиркович стремился выполнить любой ценой. Не свободен он был и от религиозных догм.
Думаю, что Фирковичу простили бы все и отсутствие образования, и варварское отношения к попавшим в его руки бесценным раритетам, если бы он не покусился на святое — не стал трогать «еврейский вопрос». Стремясь обелить караимов от событий в Иудеи периода распятия Христа, он разработал оригинальную теорию в соответствии с которой, караимы, якобы, покинули землю обетованную задолго до указанных событий, и, пройдя персидский плен, были поселены в Крыму еще до нашей эры. Таким образом, снималось обвинение в «христопродавстве», но сохранялось древнеиудейское происхождение народа. Как ни странно, но этот вариант удовлетворил и заказчика и самое главное императора. Получалось, что вместе с Крымом, в числе своих поданных он получил народ, который получил благословение от самого Моисея. Отсюда и необычная фраза в гимне Российской империи: «Нас господь благословил в Сионе». В качестве аргументов своей версии Фиркович привел разработанный им караимский календарь и что самое главное — надгробные камни, судя по которым караимы жили на полуострове с дохристианских времен.
Уже после смерти Фирковича в 1862 году академиком А. А. Куником была проведена экспертиза первого собрания рукописей Фирковича. Резкое неприятие вызвали встречавшиеся в надгробиях тюркские имена. Куник был убежден, что имя Тохтамыш по его мнению могло появится не ранее, чем на полуостров пришли татары. Указал он на различие чернил в разных частях рукописей. Надпись на надгробии 625 года, по его мнению, высечена другим резцом. Но это был только первый «критический выстрел», который остался почти незамеченным. Интерес же к находкам Фирковича был огромен. В 1865 по материалам находок опубликовано сочинение семитолога Д. А. Хвольсона. Это интересное непредвзятое исследование, но вот в 1875 появляется совместный труд А. Я. Гаркави и немецкого ученого Т. Штрака «Каталог рукописей из собрания Фирковича» в котором они официально обвиняют Фирковича в фальсификациях: приписках на полях рукописей, в подскабливании дат и нанесении новых надписей. Параллельно обвинялась и «научная крыша» Фирковича — Хвольвсон. Гаркави представляет в Академию общественных наук обширный доклад, в котором говорит об огромном по своим размерами и значению подлоге.
Научный мир в смятении. Но документы, найденные Фирковичем, столь обширны и интересны, что пренебрегать ими просто невозможно. К ним обращаются ученые ориенталисты, не отягощенные «еврейским вопросом» В. В. Григорьев, В. Д. Смирнов. Их вывод неожидан и парадоксален. Караимы — тюрки, прямые потомки хазар, и к традиционному еврейству никакого отношения не имеют.
Подобное заявление было встречено обструкцией со стороны абсолютного числа еврейских ученых, которые уверенно считали Хазарский Каганат еврейским государством, а самих хазар одним из колен Израилевых.
А. Я. Гаркави, А. А. Куник, Г. Штрак, С. А. Дубнов, Д. Г. Мапид допускали появление евреев в Крыму первый-второй век н.э., но отрицали какую-либо их религиозную самобытность. Караимы признавались исключительно еврейским этносом, с незначительной привнесенностью тюркского элемента, но не за счет хазар, те тоже считались евреями, а половцев.
Едва ли не единственным противником этой теории оставался Хвольсон, который лично отправился в Чуфут–Кале и самостоятельно нашел надписи о существовании, которых Фиркович не знал.
Прошедшие годы, десятилетия не внесли ясности. Почему-то исчезли наиболее ценные эпитафии, спиленные с надгробий караимских кладбищ. Современная экспертиза рукописей показала, что имеется несколько исправлений и нанесения надписей другими чернилами, но сделал ли это Фиркович, или он сделаны прежними переписчиками не известно.
В 1987 грузинский семитолог Н. И. Бабаликашвили опубликовал 8 надгробных надписей от 956 года по 1048 год. Все они не были зафиксированы ни Фирковичем, ни Хвольвсоном.
С другой стороны «хазарский след» не нашел поддержки и у самих караимов. В те годы главным врагом Российской империи была Османская империя — турки. Поэтому известие о том, что караимы не древние евреи, а всего лишь тюрки — пусть даже потомки хазар, огорошило караимских патриархов. «Как ныне сбирается Вещий Олег отмстить неразумным хазарам…» Эти строки Пушкина знает сегодня каждый школьник, но, знали ее и в те годы. И быть «неразумными хазарами» караимам совершенно не улыбалось. Избежав участи безвинных изгоев — евреев, караимы должны были обречь себя на участь других париев империи — крымских татар, чья судьба тоже была не на много лучше. А посему был избран довольно спорный и, прямо скажем, скользкий вариант: караимы — не евреи, но и не тюрки, а древний народ с самобытной религией, которую он вынес в незапамятные времена с Земли Обетованной. Надо признать, что власти Российской империи отнеслись к такому компромиссу весьма благосклонно. Начиная с Александра І, все российские императоры протежировали караимам, охотно посещали Кале и даже останавливались у самых знаковых персон этого народа: у Бобовича, Бейма, Пампулова.
К концу ХIХ началу ХХ века караимские фамилии Дуван, Катык, Стамболи стали известны во всей курящей России и даже за ее пределами. Фабрика «Дукат» — аббревиатура от фамилий Дуван и Катык. Табачная фабрика Габая — «Ява». Дворец Стамболи в Феодосии и сегодня является украшением города, только теперь это санаторий "Восход". В Москве караим Арабаджи был избран председателем купеческой гильдии столицы. Широко были известны машиностроительные заводы Айваза, Катламы, конезавод Шапшала, цирк Дувана.
Малоизвестная страница истории караимского народа — это участие в Крымской или как принято назвать в Европе Восточной войне.
Генерал–губернатор В. И. Пестель лично поручил караиму С. А. Бейму обследовать Таврическую и Херсонскую губернии с целью создания сети лазутчиков в случае военных действий на юге империи. Спустя время Бейм отправляет ряд донесений в штаб армии с анализом обстановки в прифронтовой области. В ответ он получает от начальника штаба генерал-адъютанта П. Е. Коцебу многочисленные записки. В одной из них, 14 июня 1855 г., Коцебу благодарит за два письма с ценными сведениями и уведомляет о посылке 500 рублей серебром «На известные Вам расходы». В другом письме от 21 июля он сообщает о передаче показаний татарина Аби-булы о неприятеле главнокомандующему. В июля Бейм испрашивает разрешения у Коцебу на посылку трех татар в занятые противником Керчь, Евпаторию и Байдары для сбора сведений об обстановке и передаче их командованию. 17 июля получает на это согласие и деньги.
В своем рапорте главнокомандующему М. Д. Горчакову от 7 ноября 1855 командир 4-го пехотного корпуса генерал-адъютант граф Д. Е. Остен-Сакен докладывал, что «крымские караимы выказали в настоящую войну очень много усердия и самоотвержения, а главный в России караимский раввин Бейм, замечательный умом, образованием, постоянно дает направление караимам и укореняет в них любовь к Отечеству».
Генерал предложил наградить наиболее отличившихся караимов, что и было сделано.
Золотой медалью «За усердие» для ношения на шее был награжден севастопольский купец 2-й гильдии Яков Софер. Серебряной медалью «За храбрость» для ношения в петлице на Георгиевской ленте мещанин Иосиф Безикович. Золотой медалью «За усердие» для ношения в петлице на Аннинской ленте — севастопольский купеческий сын Соломон Софер. Серебряной медалью «За усердие» для ношения в петлице на Аннинской ленте евпаторийский мещанин Абрам Зурн и бахчисарайский мещанин Сима Сапак.
К медали был представлен и севастопольский купец 2–й гильдии Исаак Шапшал. Бейму было прислано письмо из канцелярии главнокомандующего с просьбой дать рекомендации по этой кандидатуре. Сам же С. А. Бейм был награжден серебряной медалью (12 апреля 1856), а позднее бронзовой медалью в память Крымской войны (27 августа 1857).
Отличительной чертой народа была тяга к образованию. На средства общины, на огромные частные пожертвования содержались школы. Подавляющее число молодежи получало высшее образование. Сегодня мне кажется невероятным, что моя бабушка и ее четыре сестры, уже, будучи сиротами, поступили на знаменитые в те годы Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге, став в последствие, кто врачом, кто учителем.
Профессия врача стала чем–то вроде фирменной пpофессией караимов, положив уже в конце ХIХ века начало таких врачебных династий как Ефетовы, Таймаз, Шайтан, Синани.
Недавно общественность и власти Евпатории отметили 125–летие со дня рождения Семена Эзравича Дувана (1870–1957). В его бытность городского головы Евпатории под его руководством и частично на его деньги в Евпатории были построены: прекрасный театр, здание библиотеки.
Исключительное место в истории не только караимского, но и всех народов Крыма занимает Соломон Самойлович Крым (1864–1936). В 1918 году он возглавил так называемое краевое правительство, которое сегодня мы без колебаний могли бы считать правительством народного доверия. В его состав входили и социал-демократы, и эсеры, и конституционные демократы, к ним, кстати, относился и сам Соломон Самойлович. Почти год полуостров жил в условиях сравнимых с теми, в которых находятся все развитые капиталистические страны. Несмотря на войну, несмотря на сухопутную блокаду, край процветал! Голод начался всего лишь через год после прихода большевиков.
С именем Соломона Крыма связывают открытие Таврического Университета, который неизвестно почему все 70 лет отмечал свои юбилеи не со дня основания, а от 1920 года, когда ему было присвоено имя М. В. Фрунзе. Умер Соломон Крым в Париже, но до последних мгновений он был душой и мыслями у себя на Родине. Недавно в Крыму были переизданы, собранные им и опубликованные в Париже, "Крымские легенды".
Общаясь со стариками, выслушивая их воспоминания, я пришел к выводу, что караимы либо служили у белых, что было вполне естественно, либо всеми правдами и неправдами старались избежать участия в этой братоубийственной бойне. К сожалению, я мог беседовать только с теми, кто жил в России, но огромное число караимов оказалось в эмиграции.
В силу своей классовой принадлежности, а в подавляющем, если не абсолютном большинстве — это были врачи, агрономы, офицеры, предприниматели они были вынуждены эмигрировать. Значительное число караимов были уничтожены в годы "красного террора", молох которого в Евпатории, Севастополе, Феодосии, Симферополе во многом прошелся именно по караимским семьям.
Несмотря на то, что караимы были обласканы всеми без исключения российскими монархами, февральскую революцию они встретили восторженно. В тот период практически всю Российскую империю охватила эпидемия суверенитетов. Отделялись все! Даже Петроград надумал создать самостоятельную Северную республику. Стоит ли удивляться, что этот вирус достиг и Крыма, где Меджлисом крымскотатарского народа был выдвинут лозунг “Крым — для крымцев!” Примечательно, что найдя благоприятный отклик у крымчаков, он был враждебно встречен караимами. И причина заключалась не только в традиционном консерватизме, но прежде всего в том, что экономически караимы прочно были завязаны на Россию, где им принадлежали многочисленные заводы, фабрики, магазины. Именно туда шли из Крыма поставки фруктов, винограда, табака, вина…
Многие караимы той поры уже занимают важные, а порой и высшие посты крымской бюрократии. Обострение отношений между ориентированными на белогвардейскую Россию властями и Меджлисом крымскотатарского народа, прошедшие аресты и репрессии против части крымских татар, косвенно бросают тень и на караимов, которые в абсолютном большинстве стали на сторону белого движения.
Красный террор восемнадцатого, двадцатого года, три года гражданской войны в которой, как известно, белых офицеров в плен не брали, привели к катастрофическим потерям караимов. К тому же значительная часть оставшихся в живых эмигрировала.
С окончанием гражданской войны караимская эмиграция обосновалась во Франции, где их неформальным лидером стал контр–адмирал Кефели. Значительную роль продолжали играть бывший глава краевого правительства Соломон Крым, и последний Евпаторийский голова Семен Дуван. Конфронтация караимов и крымских татар в период гражданской войны не прошла для них бесследно. С созданием Крымской АССР и проведением политики коренизации в высшем эшелоне власти не оказалось ни одного караима. Крымчаки были, а караимов не было! Все эти годы, караимы постоянно оправдывались, безуспешно уверяя, что они “ не только Крым и Стамболи, но и простые труженики”. Тем не менее власти так и не дали им “зеленый свет” и никогда не рассматривали, как один из угнетаемых царизмом народов.
Весь довоенный период караимы жили как бы притаившись. Кратковременный роман властей с национальными меньшинствами прошел достаточно быстро. Судя по документам, сами караимы "добровольно" обращаются к властям с просьбой закрыть в Симферополе караимскую кенассу. В Евпатории в ее помещении открывают музей атеизма. В киевской кенассе по сей день находится «Дом актера». В Севастополе — в советское время находился боксерский зал, в Симферополе — радиостудия.
Искусственное дистанцирование караимов от крымских татар, как ни странно, сослужило им хорошую службу в 1944 году, когда началась обвальная депортация из Крыма целых народов. Караимов вновь не тронули!
Репрессии, так называемого "тридцать седьмого года", хотя фактически тогда каждый год был "тридцать седьмым", особо заметных следов в истории караимов не оставили. Как самостоятельный этнос он не подвергался репрессиям ни до войны, ни в ходе ее, ни после. Национальность "караим" относилась к экзотической и безвредной.
Великая Отечественная война нанесла караимскому народу столь невосполнимые потери, от которых он уже не сможет оправиться никогда. В Ялте мне довелось беседовать с бывшим бухгалтером автобусного парка Николаем Исааковичем Кефели, который собрал уникальный материал обо всех караимах участниках Великой Отечественной войны. Примечательно, что подавляющее большинство из них — офицерский состав.
К горькому сожалению, к боевым потерям, которые понес караимский народ, приходится добавить и 120 человек, расстрелянных фашистами в качестве заложников после разгрома Евпаторийского десанта в январе 1942 года.
Годы оккупации сопровождались постоянным страхом за свою судьбу. Десятки людей рассказывали мне, как ужасно чувствовали себя караимы, опасаясь в любую минуту разделить судьбу евреев, крымчаков, цыган.
Мне доводилось беседовать с людьми, которые вспоминали, как со слезами радости читали в сорок втором году статью, в издаваемой оккупантами газете «Голос Крыма», в которой давалось разъяснение, что караимы — никакие не евреи, а тюрки !
Создавалось впечатление, что оккупационные власти в ту пору знали о караимах больше, чем сами караимы.
Наш полуостров был отнюдь не первым местом, где германская администрация встретились с караимским вопросом. Вспомним Польшу, Литву, Францию.
Именно во Франции, где караимская эмиграционная прослойка была достаточно заметной, впервые поднялся страшный вопрос, от которого в очередной раз завесила судьба народа. Рассказывают, что решающую роль сыграл уже знакомый читателю бывший Евпаторийский голова Семен Эзравич Дуван, который обстоятельно доказал Розенбергу происхождение караимов от тюркских предков. Значительный вклад в решение этой жизненно важной для караимского народа проблемы внес и караимский гахам той поры Сарайя Шапшал. Изложив свою аргументацию, доказывающую, что караимы не имеют с ничего общего с еврейским народом, благородный Шапшал заявил и о данном богом праве на жизнь и еврейского народа.
И, тем не менее, повторюсь, страх не покидал людей с первых расстрелов евреев, крымчаков, цыган и по последний деньоккупации. Мой коллега, преподаватель симферопольского автотpанспоpтного техникума Леонид Самойлович Синани, рассказывал, как будучи подростком, он пришел на биржу труда. На вопрос немецкого офицера о национальности, ответил — русский, что, в общем–то, можно было бы считать правдой, так как его мама была русской. Но, заполнявшая документы делопроизводитель, молодая русская женщина, презрительно бросила: "Впервые вижу русского с караимской фамилией Синани". Леонид Самойлович рассказывал, что до сих пор помнит охвативший его после этих слов ужас.
В мае 1944 года началась депортация из Крыма крымских татар. Караимов вновь не тронули, хотя в точности с популярной в те годы пословицей: "Лес рубят — щепки летят" несколько семей по ошибке выслали. Трудно предсказать, как развивались бы события в случае депортации из Крыма еврейского народа. Общественное мнение уже было подготовлено, о чем свидетельствовала развернутая по всей стране компания антисемитизма в связи с «Делом врачей». Была готова и материальная база — десятки новых, готовых к приему узников концлагерей в Сибири и на Дальнем Востоке. Новый акт геноцида не состоялся только по одной причине — умер Сталин. Коснулся бы он караимский народ или нет сказать трудно, но смею предположить худшее.
Антисемитская компания в Крыму тех лет набрала такие обороты, что даже после смерти "Вождя и учителя" в Симферополе одним решением горсовета переименовали переулок Еврейский, переулок Крымчакский и улицу Караимскую, назвав их соответственно: переулок Одесский, переулок Восточный и улица Пархоменко.
Но самыми тяжелыми для караимского народа, для тех, кому была дорога его история, культура, память, как ни покажется странным, оказались годы застоя. Чудовищное невежество правило бал. Материалы о караимах стали изыматься из экспозиций крымских музеев, многие ценнейшие вещи и документы попросту уничтожались. Караимы оказались, словно, между Сциллой и Харибдой, где под Сциллой понимали крымских татар, под Харибдой — евреев. И тем и другим в Крыму было одинаково плохо, естесственно, с небольшой разницей: одних не впускали на их Родину, других — не выпускали!
Последствия "тихого геноцида" не могли не сказаться. Численность караимов начала стремительно уменьшаться. Русскими стали записывать детей, рожденных не только в смешанных браках, но и в чисто караимских семьях. Люди старались не вспоминать о своих караимских корнях, стыдились своей принадлежности к не титульной нации.
В эти годы судьба свела меня с Семитой Исааковной Кушуль. Уже тогда в 1979 году она была достаточно преклонного возраста. Беседы с ней поразили меня. Несколько раз я специально ездил в Евпаторию, чтобы узнавать от нее о народе, к которому принадлежу, может быть самым краешком.
Вопреки всему все больший интерес ученых стал вызывать караимский язык, как живой носитель хазарского языка. Дело в том, что писали хазары на языке своей религии — древнееврейском и потому чисто тюркских слов дошло до наших дней не более двух десятков и то, как правило, посредством имен хазарских каганов.
Язык караимов относится к кыпчакско-половецкой подгруппе кыпчакской группы тюркских языков. Из древних языков он ближе всех к половецкому, а из современных — к карачаево-балкарскому, кумыкскому, крымскотатарскому.
В эти годы от семьи к семье, от судьбы к судьбе ходил молодой тогда человек, будущий врач Игорь Шайтан, проводя негласную перепись караимского народа. Порой от него шарахались, как от прокаженного. Люди боялись! Но деятельность и его, и Николая Исааковича Кефели, и составителя уникального русско–караимского словаря Марка Эзровича Хафуза , и прежде всего Семиты Исааковны Кушуль оказалась не напрасной: с первых же дней Перестройки караимские активисты во весь голос заявили о своем народе. Вновь было создано караимское культурное общество, которое объединило почти всех караимов не только Крыма, но и Москвы, Санкт-Петербурга. Маленькая первая победа — возвращение в Симферополе одной из старейших улиц города ее первородного имени — КАРАИМСКАЯ. Тогда этому усиленно лоббировали два депутата Симферопольского городского Совета Вячеслав Лебедев и Владимир Поляков, чьи родословные восходят к караимскому народу.
Обществу удалось наладить связи с Литвой, да что там с Литвой — с Парижем! Большую финансовую помощь общине стал оказывать гражданин Франции крымский караим Сарач. На полученные от него деньги и деньги не малые, удалось наладить издательскую деятельность, осуществить выпуск нескольких томов "Караимской наводной энциклопедии". В 1999 году состоялось торжественное открытие возрожденной караимской кенассе, что стало возможным благодаря активной деятельности караимской общины Евпатории, которая стала одной из самых ярких достопримечательностей города.
В непростой политической обстановке, в которой оказался Крым в постсоветский период, караимское общество, несмотря на его малочисленность, постоянно стремятся вовлечь, и не всегда безуспешно, в самые различные компании по "осуждамсу" и "одобрямсу" тех или иных событий. Не прекращаются попытки разыграть караимов как политическую карту то в антитатарской, то в антирусской, то в антиукраинской партии.
Чем меньше становится караимов, тем больше становится у них национальных обществ. В каждом из них немало прекрасных, умных, честных людей, которые объединяет искренний интерес к истории народа, частью которого были их отцы, деды, а у кого — матери, бабушки. Я сознательно не буду называть имен этих подвижников, как и не буду называть имена проходимцев, которые сделали «караимство» своим бизнесом. Бог им судья. Больно лишь осознавать, что по ним судят о караимском народе. Народе — веками славившемуся своей щепетильной честностью.
Если послушать современных караимских «проповедников», то создается представление о неком народе–язычнике, покланявшегося своему Богу –– Тенгри, священным дубам, которые находились в роще Балта–Теймез –– «Не коснись топор». И не понимают эти «проповедники», что «Балта–Теймез» –– это идеома, означающая всего лишь «девственный лес». А тенгрианцами караимов можно называть с таким же успехом, как русских или украинцев –– язычниками. Религия караимов –– Библия! Пятикнижье Моисея!
Нравится кому или нет, но их братья по крови, по языку, по культуре –– это крымские татары.
Нравится это кому или нет, но религия караимов восходит к раннему иудаизму и предавать ее –– это предавать память своих предков, которые на протяжении целого тысячелетия сумели сохранить религию, а вместе с ней и свой самобытный народ.
Караимский народ даже при своей фантастической малочисленности всегда был богат на неординарные личности, и появление караимов в высших эшелонах власти было обычным явлением. Так в дореволюционный период С. М. Шапшал был воспитателем наследного принца Персидского престола. Кефели –– Контр–адмирал Российского флота. Как уже упоминалось С. С. Крым –– Глава краевого правительства в Крыму. Как не малочисленен караимский народ, но след его порой отыскивается в самых неожиданных местах. И мы перечислим только несколько наиболее примечательных фактов:
Балет –– несравненная Анна Павлова –– дочь евпаторийского караима Шабетая Шамаша.
Авиация –– первая женщина России, поднявшаяся в воздух на аэроплане, –– оперная певица Сюльтане Майкапар, которая в 1911 году на аэроплане конструкции «Фарман» в качестве пассажира совершила полет протяженностью 232 километра, пробыв в воздухе 4 часа 17 минут и 53 секунды.
Конный спорт –– М. М. Шапшал владелец всемирно известной в начале века лошади Крепыш. За свою карьеру Крепыш выступал 79 раз и 55 завоевывал первое место. 13 раз устанавливал рекорды, причем на все дистанции. Называли его «Лошадью столетия». Именно она стала прообразом толстовского «Холстомера».
Театр –– артист московского художественного театра И. Э. Дуван–Торцов.
Армия –– Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский.
Как не сомнительна честь быть «Почетным крымчанином» –– в основном ей удостаиваются бывшие секретари Крымского обкома КПСС, но и здесь есть караим –– прекрасный человек, врач В. М. Ефетов.
Ну и совсем уже не серьезно, так это то, что прообразом несравненного Остапа–Сулеймана–Берты–Марии–Бендер–бея был одесский караим Илья Леви. Впрочем, папа его действительно «турецко–подданный», был родом из Евпатории. А сам Илья в юности даже учился на отделении риторики Московского Университета. В отличии от своего литературного героя, накануне войны благополучно перебрался за рубеж и безбедно закончил свою жизнь в Соединенных Штатах.
Численность караимов катастрофически уменьшается. В чем же причина? Ассимиляция другими народами? Признаюсь честно, долгое время я тоже был убежден в этом, пока не сделал анализ истории своей семьи, своего родового древа, который может быть интересен и стороннему читателю.
У Потомственного почетного гражданина Евпатории Вениамина Шолемовича Туршу как и у его братьев было 11 детей! Если бы события развивались так же, как и ранее, то каждый из них оставил после себя 7–12 потомков. К сожалению, на долю этого поколения пришлась революция и гражданская война. В результате которых, выжило только пятеро внуков Вениамина Туршу. На их жизнь вновь пришлась война –– Отечественная, и потому уже следующее поколение представлено только четырьмя его правнуками Замечу, что из них в Крыму проживает только один человек –– автор этих строк.
Такова печальная судьба только одной ветви старинного рода Туршу ––
Вениаминовичей. Насколько я могу судить, не лучше картина и по остальным ветвям этого рода. На сегодняшний день во всем Крыму уже нет ни одного носителя этой фамилии!
Двадцатый век караимы, как и сама Россия встретили процветающими, устремленными в будущее. Для того, чтобы уничтожить и караимский народ и страну понадобилось совсем немного времени, каких то семьдесят лет с их революциями, войнами, Гулагами.
В ХХI веке караимы как самостоятельный этнос прекpатят свое существование. Ниточка непосредственного общения, которая еще связывала нас через тысячелетие с хазарами, оборвется навсегда.
Уже в зрелые годы я провел много времени в Крымском государственном архиве, где по крупицам восстанавливал свою родословную. Будучи по образованию инженером-автомобилистом, то за основу я взял систему каталожных номеров деталей автомобиля, которая представляется мне наиболее удобной, и с помощью которой, удалось проследить свои корни до середины XVIII века, то есть до прихода русских в Крым. Я привожу это древо полностью, с тем, чтобы потом дать, комментарий и историческую справку о людях, судьба которых представляет интерес.
Генеалогическое древо Туршу
1. Садук Туршу + ?
его дети: Илья, Шолема, Иосиф.
2. Илья Садукович Туршу + Беруха дочь Вениамина
их дети:
3.1. Шолема (23.09.1812–68) + Анна дочь Симы Бобовича ( ?–18.12.83)
3.2. Иосиф (08.10.1819–1869)
3.3. Садук (28.09.1823–?)
3.4. Сима (30.11.1830–21.06.1902)
3.5. Моше (05.02.1833–?)
Их дети:
4.1.1. Вениамин (28.02.36–1906) + Анна дочь Анания Крым (10.02.52–?)
4.1.2. Арон (06.11.1841–1891)
4.1.3. Самуил (12.09.1847–?)
4.1.4. Сима (1855–1858)
4.1.5. Илья (29.12.1860–1906)
4.1.6. Биче (27.11.53–?)
Их дети:
5.1.1.1. Илья (06.03.1869–11.03.1873)
5.1.1.2. Рахиль (14.09.1870–1921)
5.1.1.3. Эммануил (22.03.1872–7)
5.1.1.4. Авраам (29.01.1874–1921)
5.1.1.5. Иаков (1875–1875)
5.1.1.6. Бубюш (1880–1972)
5.1.1.7. Беруха (03.10.1882–?)
5.1.1.8. Эстер (17.08.1885–1976) + Поляков Матвей Петрович (1885–1921)
5.1.1.9. Соломон (11.05.1887–1986)
5.1.1.10. Ананий (1889–1970)
5.1.1.11. Сарра (25.08.1890–?)
их дети
Эстер + Поляков Матвей Петрович
6.1.1.8.1 Поляков Евгений Матвеевич (24.08.1911–06.08.1992)
6.1.1.8.2. Полякова Надежда Матвеевна (1914–1989)
Соломон Туршу + Надежда
6.1.1.9.1 Молоденкова Зоя Сергеевна (1917–1996) + Перзеки Борис
Сарра Туршу + Иван Николаевич Пашин
6.1.1.11.1 Пашин Сергей Сергеевич (1924–1987)
6.1.1.11.2 Пашин Владимир Сергеевич (1926–1945)
их дети
7.1.1.8.1.1 Поляков Леонид Евгеньевич (1937–2003)
7.1.1. 8.1.2 Поляков Владимир Евгеньевич (1946 -)
7. 1.1.8.2.1 Борцова Аня (1937–1942)
7.1.1.9.2.1. Перзеки (?–1942)
7.1.1.11.1.1. Пашин Сергей Сергеевич (?–?)
7.1.1.11.1.2. Пашина Светлана Сергеевна (?–?)
Их дети
8.1.1.8.1.1.1 Лебедева Елена Леонидовна (1959–?)
8.1.1.8.1.1.2. Бушунова Наталья Леонидовна (1968–?)
8.1.1.8.1.2.1. Клименко Ольга Владимировна (1970 -?)
их дети
9.1.1.8.1.1.1.1 Лебедев Евгений Александрович (1986–?)
9.1.1.8.1.1.1.2. Лебедев Игорь Александрович (1989–?)
9.1.1.8.1.1.2.1 Бушунова Яна Васильевна (1986 –?)
9.1.1.8.1.2.1.1 Клименко Илья Игоревич (1993 -?)
10.1.1.8.1.1.1.1. Лебедева Полина Евгеньевна (2010 –?
Лет пять назад мой ученик и друг Сережа Артищев, в ту пору работник уголовного розыска, подготовил мне адресную справку о всех людях с фамилией Туршу. Было их всего три человека. Все они жили в Евпатории. Когда я к ним приехал, то в живых была только одна старушка. Была она из рода Арона Шолемовича Туршу. Отец ее был военным врачом и в 1918 году на ее глазах он был казнен большевиками. Всю жизнь эта женщина прожила на улице, которая носит имя убийцы её отца.
На момент, когда пишутся эти строки, то есть в 2007 году в Крыму не проживает уже никто из этого древнего рода Туршу, за исключением меня и моего внука Ильи.

