Александр Каменский - специалист по истории России XVIII в. Руководитель школы исторических наук гуманитарного факультета Высшей школы экономики. Автор монографий: Российская империя в XVIII в.: традиции и модернизация. М., 1999; Повседневность русских городских обывателей. Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII в. М., 2006; Россия в XVIII веке: общество и память: исследования по социальной истории и исторической памяти. Спб., 2017 и др.

Александр Каменский. Фото с сайта Высшей школы экономики. www.hse.ru
Вадим Назаренко: Прошло уже более 20 лет после выхода Вашей книги «Повседневность русских городских обывателей». Сейчас Вы, наверное, уже писали б ее по-иному? Как изменились Ваши взгляды на русскую повседневность XVIII века?
Александр Каменский: В настоящее время готовится второе издание этой книги, в которое внесены некоторые незначительные исправления и к которому я написал небольшое новое предисловие. В нем я, в частности, отмечаю, что, на мой взгляд, проблемное поле истории повседневности, как направления исторической науки (если таковое вообще существует) остается довольно неопределенным. Оно накладывается на проблемные поля таких направлений как история семьи, история детства, история бытовой культуры, гендерная история и т.д. Понятно, что, изучая, к примеру, практики общения родителей с детьми, историк, работающий в парадигме истории семьи, и историк, работающий в парадигме истории повседневности, будут по-разному расставлять акценты. Но суть проблемы от этого не меняется. Четкое определение границ понятия «повседневность» как предмета исторического исследования, отсутствует и, вероятно, не может быть дано.
Во-вторых, я вряд ли написал бы сегодня книгу иначе, поскольку, как в ней самой подчеркивается, попавшая на ее страницы проблематика определялась информационным потенциалом источников, с которыми я работал. Сама эта работа продемонстрировала, как мне представляется, что выявление повседневных практик является достаточно сложной исследовательской задачей. Исследования же, которыми я занимался уже после выхода книги, показали, что повседневность (имея в виду эмпирическое восприятие этого понятия, а не строгую дефиницию) была значительно сложнее и многообразней, чем принято считать. Отчасти это нашло отражение в моей последней книге «Россия в XVIII столетии. Общество и память» (Санкт-Петербург. 2017). Однако конечно же неслучайно это вывело меня на проблемы структуры российского общества XVIII в., потому что без изучения этих проблем мы никогда не поймем сущности и типов вертикальных и горизонтальных связей внутри него, а также коммуникативных практик, в значительной мере определявших структуру повседневности.

В.Н.: Одной из главных Ваших «парадигм» есть вопрос модернизации, больших изменений Российской империи? Возникает существенный вопрос о социологизации исторической науки и как термины возникшие в более позднее время сочитаются с процессами прошлого? В Украине одна из важных тем – «модернизация» гетманской автономии в XVIII в.. Но следует ли отождествлять противоречивые процессы с существенными изменениями более позднего времени: перехода от ручного труда к машинному, от деревни к городу, от земли к денежному капиталу, особенно на примерах Восточной Европы, где просвещенный абсолютизм привел к очерчению сословных различий, распространению крепостного права, поражению филантропических проектов и подавлению неконтролируемой промышленной инициативы на пограничье?
А.К.: Ваш вопрос распадается на несколько крупных вопросов. Первый – это вопрос о терминологии исторической науки или, иначе, ее языке. Это, на мой взгляд, один из острейших на сегодняшний день вопросов, который, скорее всего, может быть решен не путем кабинетных размышлений, но лишь в процессе естественного развития самой науки.
Второй вопрос – о том, что принято называть модернизацией прошлого в результате описания его с помощью понятий, появившихся значительно позже. Эта проблема не менее сложна. Моя позиция в этом вопросе такова: мы вправе использовать понятия, если они имеют достаточно точное научное определение. Приведу пример: в рецензии на мою книгу «Реформы в России XVIII века» один коллега указал на то, что ни Петр I, ни Екатерина II слова «реформа» не знали, а значит, и нам не следует его использовать. В своем ответе рецензенту я, в свою очередь, обратил его внимание на то, что Екатерина II в своем Наказе Уложенной комиссии писала о «переменах», осуществленных Петром Великим и задавался вопросом, следует ли нам в этом случае использовать это слово вместо слова «реформы»? Последнему, кстати, я в своей книге постарался дать четкое определение.
Третий вопрос – о понятии «модернизация» и его применимости к российской истории XVIII в. Хорошо известно, что на этот счет существуют разные точки зрения. Мне представляется, что в определенной степени за этими разногласиями стоит опять же проблема разного понимания самого термина. Если вернуться к его изначальному, веберовскому смыслу, то есть к пониманию модернизации, как процесса трансформации традиционного общества в общество современного типа, то я продолжаю считать, что этот термин вполне применим к процессам, происходившим в Российской империи XVIII в. Даже несмотря на то, что эти процессы носили крайней противоречивый и зачастую разнонаправленный характер. Показательно также, что в предложенной формулировке вопроса акцент сделан прежде всего, как сказали бы наши советские предшественники, на социально-экономическую сферу, в то время как модернизация – это еще и процесс трансформации сферы духовной. При этом далее можно обсуждать противоречивость процесса модернизации, его темпы и т.д. Некоторые современные исследователи предпочитают говорить о другом типе модернизации в России и призывают не сравнивать ее с модернизаций в странах Западной Европы, но мне этот путь не кажется продуктивным (см.: Каменский А.Б. К проблеме «вековой русской отсталости» // Questo Rossica. №1. 2018. С. 185-206.).
В.Н.: Важный вопрос о функционировании центра и окраин в период больших изменений. Постольку империи способны «колонизировать» пространство, вносить новые цивилизационные формы и изменять взаимоотношения, содействовать коммуникациям; не приводит ли это точностью до наоборот к консервативной защите, началу национальных движений и антиимперской риторике? На самом деле, имперский просветительский проект в последствии приводит саму империю к краху?
А.К.: Прежде всего должен оговориться, что не являюсь экспертом по имперской проблематике. Но, сколько мне известно, именно взаимоотношения центра и периферии принято считать основной проблемой всякой континентальной империи, каковой была и империя Российская. Центр, с одной стороны, старается интегрировать периферию в общеимперское пространство с тем, чтобы извлекать из нее максимум пользы, а с другой, предпринимает усилия по удержанию ее в составе империи, поскольку отделение имперских окраин грозит крахом всей империи и для этого вынужден использовать гибкую политику. Цивилизаторская идея, характерная уже для конца XVIII и тем более XIX века безусловно играла свою роль в политике имперского центра, но не менее значимыми были и чисто практические цели колонизации пространства. Параллельно на окраинах шел естественный процесс формирования национального самосознания. Формулировка «имперский просветительский проект впоследствии приводит саму империю к краху», на мой взгляд, слишком категорична, поскольку предполагает, что, если бы не этот «проект», то национализм на окраинах не сформировался. Думаю, что это не так. Речь идет о двух естественных, исторически обусловленных процессах – взаимосвязанных, но не столь жестко.
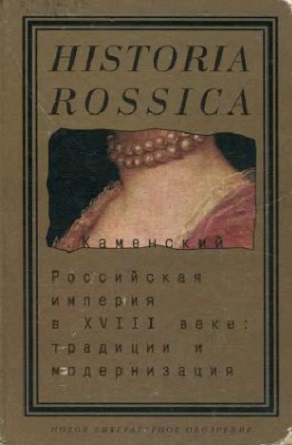
В.Н.: Недавно в России был скандал, связанный с диссертаций министра образования Мединского. Некоторые историки выступили с разоблачением (Лобин, Пенской), однако ученой степени министра не лишили. В связи с этим возникает два вопроса. Первый — может ли корпорация историков защитить науку от плагиата, фальсификаций, фольк-хистори? Если может, то какие механизмы и практики нужно применять в нынешней системе образования? Второй вопрос: как историку защитить свою репутацию в случае несправедливой критики и прямой травли?
А.К.: Прежде всего следует заметить, что в России вряд ли кто-либо сомневается в том, что не лишение Мединского ученой степени обусловлено мотивами, далекими от науки. Поэтому обладающие высокой научной репутацией профессиональные историки г-на Мединского своим коллегой не считают и его степень не признают, вне зависимости от решения Президиума ВАК. Что касается защиты науки от фальсификаций и прочего, то полагаю, что проблема эта касается не только науки исторической, но науки вообще. Не случайно в Российской Академии наук существует комиссия по борьбе с лже-наукой. Другое дело, что в случае с историей надо принять во внимание определенную специфику ее положения в современном обществе, причем не только в постсоветских странах, но и во всем мире. Думаю, что решение проблемы связано с четким разделением собственно исторической науки и массовых представлений о прошлом, которые неизбежно, всегда и везде, носят преимущественно мифологический характер. Относительно же защиты репутации, то, наверное, и тут вряд ли историк находится в каком-то особом положении. Репутацию защищают в суде, а в том случае, когда речь идет о репутации научной, то в первую очередь своими работами. Как хорошо известно самим историкам, она, история, в конечном счете всегда расставляет все по своим местам и четко определяет кто есть кто. Ну, а что касается образования, то важным его элементом является знакомство с студентов с основами научной этики. Впрочем, важнейшую роль тут играет пример самих преподавателей.
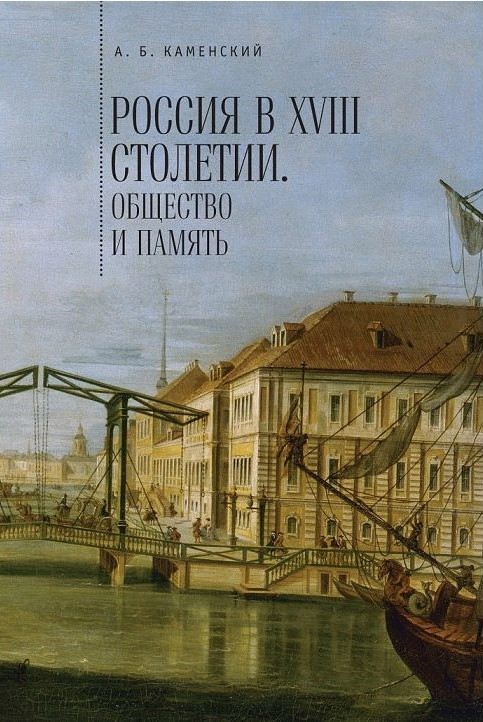
В.Н.: Вы сотрудничаете с «ПостНаукой», «Арзамасом», консультировали Леонида Парфенова для сьемок фильма «Россия XVIII века». Какие ваши впечатления от опыта занятий публичной историей? Какие проблемы ждут исследователя, который решил заняться популяризацией науки? Не кажется ли Вам, что причина появления феномена Фоменко-Понасенкова на постсоветском пространстве – это отсутствие качественной научно-популярной литературы по истории?
А.К.: Я думаю, что причины гораздо более серьезны и они связаны прежде всего с радикальными трансформациями массового сознания, во-первых, в связи с распадом СССР и, во-вторых, с общемировыми процессами – началом новой культурно-исторической эпохи. При этом позволю себе парадоксальное высказывание: популярность Фоменко и ему подобных (а им несть числа), на мой взгляд, указывает на то, что в массовом сознании наших соотечественников происходит трансформация общего отношения к прошлому. Раньше исследователи указывали на особую, едва ли не сакральную значимость прошлого для русского исторического сознания, ощущаемого как фактора, детерминирующего будущее. Формирующийся новый тип исторического сознания, в парадигме которого прошлое не является сакральным, в таком случае ближе к западному типу, где человек гораздо больше верит в то, что его будущее зависит от него самого.
Относительно научно-популярной литературы я думаю дело не в количестве, а в качестве. При этом я считаю, что и научная монография должна быть написана так, чтобы она была доступна непрофессионалу. Для того же, кто решил посвятить себя популяризации истории (а это, по моему убеждению, отдельная профессия, хотя популяризацией в той или иной степени занимаются и действующие ученые), надо быть готовым, во-первых, говорить на ином, не академическом языке, во-вторых, к тому, что его потенциальная аудитория ждет от него совсем не того, что, как он думает, ей интересно и, в-третьих, к тому, что у этой аудитории уже есть собственное мнение едва ли не по любой исторической проблеме.
В.Н.: Вы неоднократно говорили о необходимости изменения преподавания истории. Видите ли Вы позитивнее изменения в этом вопросе? Как вы оцениваете те интерактивные учебники, которые сейчас используют?
А.К.: Я думаю, что говорить о каких-то серьезных изменениях пока преждевременно. В Высшей Школе Экономики, где я работаю, мы пока экспериментируем, идет путем проб и ошибок и как раз сейчас обсуждаем радикальное изменение нашей образовательной программы. С точки зрения ее структуры, главная проблема мне видится в том, что, перейдя на трехуровневую систему высшего образования (бакалавриат – магистратура – аспирантура), мы скопировали на Западе форму, но не содержание, в связи с чем пока не в состоянии дать четкий ответ на вопрос о том, каким мы видим нашего выпускника, бакалавра истории, что мы хотим получить «на выходе». Другая проблема связана с тем, о чем говорилось выше. Мы живем в новую культурно-историческую эпоху и имеем дело со студентами, которые родились уже в эту эпоху, в то время как большинство преподавателей – люди из прошлого. И актуальны сегодня не интерактивные учебники, против которых я ничего не имею, хотя бы потому что ничего о них не знаю, считая, что в высшей школе учебники, если и нужны, то не по профильным предметам, а повсеместно вводимые он-лайн курсы. Благо это или зло, как это скажется на качестве образования, как будут в связи с этим строиться отношения учителя и ученика, нам еще предстоит выяснить.
В.Н.: В большинстве постсоветских стран есть большие проблемы с высшим образованием, особенно в гуманитаристике. Это и коррупция, и отсутствие достаточного финансирования, и проблемы с качеством научных кадров, и плохая имплементация достижений мировой науки... Сейчас вы являетесь руководителем школы исторических наук гуманитарного факультета ВШЕ. Это заведение можно назвать молодым (1992 г.). Оно является одним из самых престижных учебных заведений на территории Восточной Европы. На постсоветском пространстве есть несколько успешных новых проектов, например, в Украине — это Киево-Могилянская академия и Украинский католический университет (на базе которого МАГ проводит уже второй конгресс). Они активно развиваются, готовят хороших специалистов. Следует признать, что в Восточной Европе существует опыт создания новых университетов, уже неплохо зарекомендовавших себя. Но, с другой стороны, рядом с этими учебными заведениями существуют «старые» со множеством противоречий. Очень часто выходит, что на кафедре может работать специалист европейского уровня и несколько людей с сомнительными научными достижениями. Что делать в таком случае? Может, историческую науку ждет свой аналог «Ноева ковчега»? В одном из своих интервью, Вы, например, отмечали, что научные степени должны присуждать лишь ведущие учебные заведения. Но ясно, что это не панацея. Как все-таки решать эти проблемы относительно исторического образования и науки?
А.К.: Это очень масштабный вопрос, и я вряд ли могу дать на него столь же масштабный ответ, хотя бы потому, что мое видение ограничено и кругом моих полномочий и тем, что мне повезло работать в действительно уникальном учебном заведении, где и абсолютное большинство преподавателей, и представители администрации университета – это профессионалы очень высокого уровня. Впрочем, следует отметить, что к преподавателям в ВШЭ предъявляются очень высокие требования и как к ученым, и как собственно преподавателям. Соответствовать этим требованиям далеко не просто, но зато и значительно выше шансы на получение достойного вознаграждения.
Полагаю, что один из возможных путей решения проблемы связан с созданием системы, при которой ведущие университеты играли бы отношению к другим роль ресурсных центров, транслируя в них передовые образовательные технологии, занимаясь повышением квалификации кадров и т.д. Что касается присуждения ученых степеней, то в России соответствующее право ведущим вузам сегодня дано и буквально несколько дней назад у нас состоялись две первые защиты по историческим наукам. При этом очевидно, что должно пройти определенное время, пока присуждаемые университетами ученые степени обретут в нашем обществе доверие и желаемую степень престижности. Однако в дальнейшем, я думаю, право присуждения степеней может быть дано и всем остальным вузам, что будет способствовать созданию конкурентной среды, без которой невозможно и решение кадровых проблем, о которых идет речь в вопросе.
Другая сторона этой проблемы – это, конечно, ресурсы, которыми обладает тот или иной университет. Так, к примеру, ВШЭ ежегодно осуществляет найм преподавателей и научных сотрудников на международном рынке и финансирует работу международных научных лабораторий, что, конечно же, стоит недешево. Однако именно это, с другой стороны, работает на престиж университета и ведет к притоку так называемых коммерческих абитуриентов, а также числа выполняемых университетом проектов по заказам представителей как государственного, так негосударственного секторов. Иначе говоря, в данном случае работают рыночные механизмы, запущенные в результате продуманной и грамотной экономической политики. Еще одна особенность ВШЭ – это то, что университет постоянно находится в процессе развития, изменений, которые касаются и организации учебного процесса и научных исследований, и структуры самого университета, причем механизмы подобных изменений таковы, что неизбежные при этом ошибки легко и быстро исправляются.
Что касается региональных университетов, то очевидно, что в сегодняшних реалиях для них большое значение имеет отношение к ним местных властей, то какой они видят роль университета в своих регионах и в зависимости от этого поддерживают или не поддерживают его развитие. Сама по себе эта ситуация, конечно же, не нормальна, поскольку ставит вуз в зависимость не только от федерального министерства, но и от благожелательности местной власти. Однако за этим, в свою очередь, стоит неспособность большинства региональных университетов играть в своих регионах ту социальную роль, какая характерна для университетов на Западе, а также неразвитость механизмов частного инвестирования в высшее образование и использования ресурсов, связанных с выпускниками, что, к примеру, в США является одним из важнейших источников доходов университетов.

Александр Каменский.Конгресс МАГ. Львов. 27 июня 2018 г.
В.Н.: Во время конгресса МАГ Татьяна Щитцова в своем докладе «Между объективностью и принадлежностью» коснулась проблем гуманитаристики в странах бывшего СРСР. Она отметила, что сейчас любая робота гуманитария политизируется, «даже если ученые воздерживаются от участия в политических или публицистических дискуссиях, всякое их научное высказывание de facto вступает в определенное отношение (согласия или несогласия) с официальной государственной позицией по вопросам национального сознания и политики памяти». По мнению Щитцовой, такая имплицитная политизация становиться главной преградой для одной из главных задач гуманитариев — медиации между производством гуманитарного знания и производством смысла (и осмысленности) в различных практических контекстах жизненного мира. Вы согласны с этими тезисами и насколько они подходят к России (у Щитцовой Россия — один из главных примеров)?
А.К.: По сути Татьяна, конечно, права, но я бы не стал драматизировать ситуацию и воспринимать ее слова буквально. Во-первых, вряд ли любое научное высказывание гуманитария, например, по поводу поэзии Овидия, входит в согласие или несогласие с официальной точкой зрения – хотя бы потому что Овидий вряд ли сколько-нибудь волнует современную российскую или украинскую власть и вряд ли у нее есть своя, официальная точка зрения на его творчество. Более того, я убежден, что, по крайней мере в России, никакой внятной официальной «исторической политики» и, соответственно, государственной позиции не существует. Даже принятый несколько лет назад Историко-культурный стандарт содержит длинный перечень «трудных вопросов», фактически покрывающий всю историю России. Во-вторых, мы знаем, что история всегда и везде была наукой в той или иной степени политизированной, а в СССР и вовсе официально считалась идеологической. В отличие от знаний по химии, или физике, представления о прошлом присутствуют в миросознании каждого человека, влияя на его социальное поведение в настоящем, что, конечно же, не может не беспокоить политическую власть. Сегодня, с одной стороны, в условиях глобализации, и отдельные политики, и большие группы людей испытывают подчас безотчетный страх из-за мнимой угрозы потери национальной идентичности, усиливаемый опять же наступлением новой культурно-исторической эпохи, меняющей базовые, используя выражение А.Я. Гуревича, категории культуры. С другой, на постсоциалистическом пространстве возникли десятки новых стран, где идет процесс формирования новой государственности, требующей национального единения вокруг определенного комплекса идеологем, и где власть нуждается в собственной легитимации. В этих условиях «бои за историю» естественно усиливаются, хотя, в зависимости от особенностей восприятия прошлого, о которых сказано выше, идут с разной интенсивностью.
Что же до «производства смысла», то мне кажется, что это в первую очередь зависит от самого исследователя и его жизненной позиции. От того, является производство смыслов, как и производство знания для него целью жизни или средством ее обеспечения. Мне кажется, что при всех сложностях и преградах, если ученый честно и профессионально занимается производством знания, то производство смыслов возникает само собой, хотя эти процессы могут быть не синхронны и второй может идти с тем или иным запозданием. Но разве не также было и прежде?
Мне лично чрезвычайно близка позиция Георгия Касьянова, выраженная в предисловии к одной из его работ, где он писал, что не принадлежит ни к одному политическому лагерю и что сама его работа может быть предметом только академической дискуссии.
В.Н.: Члены редколлегии, которая издавала собрание сочинений историка Ивана Лисяка-Рудницкого, написали в предисловии издания, что после 1991 года Украина оказалась для России «родственником, с которым долго жили под одной крышей, но вдруг оказалось, что о нем знали очень мало». Сейчас об украинской истории в академических кругах знают больше?
А.К.: К сожалению, я не обладаю достаточной информацией, чтобы дать на этот вопрос исчерпывающий ответ. Мои собственные наблюдения говорят скорее о том, что в этом плане мало что изменилось. Историей Украины в России занимаются непростительно мало, труды современных украинских историков за пределами узкого круга специалистов по той или иной конкретной проблеме практически неизвестны, на русский язык почти не переводятся. Счастливое исключение – монография Н.Н. Яковенко. Судя по тому, что в книжных магазинах я давно ее не вижу, раскупили эту книгу довольно быстро. «История Украины», написанная российскими историками, вышла, как кажется небольшим тиражом и также известна мало. Тоже можно сказать и о совместном российско-украинском издании «Русско-украинский исторический разговорник: Опыты общей истории». (М,: Новое издательство, 2017).
В.Н.: Спасибо!

